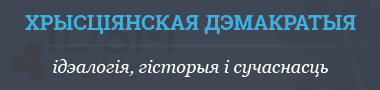Одиннадцать мифов о белорусском режиме и его перспективах
Многие из моих тезисов могут показаться неверными и вызывающими, но именно это желание – «спровоцировать» – и толкнуло меня на написание данной статьи с ее неотшлифованными и, подчас, слишком радикальными аргументами. Некоторые из тезисов почти наверняка покажутся циничными, особенно в свете того, что в Беларуси за свои убеждения страдает огромное количество порядочных и замечательных людей. И вместе с тем, я намеренно оставляю в ней и «дистанционный снобизм», и позицию «ничего святого» и «оторванность от белорусской реальности».
Цель данной публикации – очертить некоторые мифы о белорусском режиме, которые прочно укоренились в аналитическом сообществе. Каждый их них может быть темой отдельной дискуссии и статьи. Tем не менее, я посчитал более целесообразным на данный момент описать эти мифы в этой достаточно хаотичной работе (обо всем сразу), нежели оттачивать аргументацию в рамках более академичного жанра. Проблема с производством мифов, о которых пойдет речь, на самом деле многоплановая: интеллектуальный продукт напрямую зависит от качества сообщества, которое этот самый продукт производит (не говоря уже об участии в мифотворчестве непосредственных потребителей). В данной статье я воздержусь от оценок самого сообщества, ограничившись лишь одним тезисом, (который выносит авторитарный контекст белорусского режима за скобку): в Беларуси слишком много интеллектуалов-эссеистов и слишком мало профессионалов-исследователей. В связи с подобной пропорцией, производство мифов становится наиболее плодотворным: какие-то идеи и теории (зачастую крайне устаревшие, спорные и неудачно выбранные) попросту принимаются на веру, без прохождения воронки критической подозрительности, которая присутствует в любом контексте, где есть конкуренция аналитиков, идей и платформ. Вместо этого (ничего личного!) почти каждый мнит себя стратегом с единственно правильной позицией, а на выходе, вместо оценки текущей ситуации и построения прогнозов ex ante, анализируя все post factum, получается что-то вроде анекдота: «белорусские океанологи установили, что в самом глубоком океане наиболее глубоко».
Миф первый: Беларуси предстоит политический и экономический транзит.
Начну с теории. Практически любой вариант белорусского будущего рассматривается как замена одних институтов другими на макроуровне. Данный процесс планируется как совершение определенных шагов на шахматной доске – из клетки «авторитарное прошлое» в клетку «демократическое будущее», из «социалистической-смешанной экономики» в «капитализм», от квази-советской идентичности к про-европейским корням, и, наконец, от авторитарного государства к государству демократическому. Предполагается, что замена институтов произойдет «оптом»: пакет «экономика, политика, государство» в том виде, в котором он и существуют сейчас (t0), будет моментально заменен новым пакетом (t1). У данной модели есть несколько существенных недостатков, на которых я остановлюсь подробнее: 1) телеология направления смены режимов (от изначально плохого к несомненно хорошему) [1] ; 2) неизменная параллельность транзитов (либерализация экономики якобы происходит только одновременно с демократизацией и построением эффективного национального государства); 3) вера в появление «окна возможностей» (или «медового месяца» для белорусской истории), в пределах которого новые лидеры смогут, будучи иммунизированными от действия старых правил игры, продвинуть дизайн новых для Беларуси институтов. Иначе говоря, существует миф о том, что настанет момент экстраординарной политики, когда у белорусской оппозиции появится возможность «ксерокопировать» демократические и рыночные институты на Западе, и наклеивать их на девственно-чистое поле. Более того, существует достаточно серьезная уверенность, что трансформация начнется после коллапса режима, и при этом, за редким исключением, аналитики исключают возможность начала трансформаций в рамках существующего политического режима.
1 а). Tabula rasa. Итак, имеется совершенно необоснованное ожидание того, что в какой-то момент режим Лукашенко превратится в руины, и на развалинах, с чистого листа, демократический альянс сможет построить свою идеальную модель государства, общества, политики и экономики. Так не бывает. Во-первых, будущее строится не на руинах прошлого, а из руин прошлого [2] , при этом, происходит не замена одних институтов другими, а переориентация, реконфигурация, ре-адаптация уже существующих. И здесь критически важным является именно зазор между возможностью для инноваций и «зависимостью от колеи». Иначе говоря, миф заключается в том, что коллапс режима приводит к появлению институционального вакуума, или «окна возможностей», в которых политики, вырвавшись из-под влияния прошлых институтов, могут совершенно волюнтаристски выбирать дизайн будущих правил игры в политике и экономике, как будто бы прошлый режим не обладает никакой инерционностью и адаптивностью. В реальности же, политики в период трансформации строят здание будущего из старых «кирпичей и блоков», некоторые из которых, могут по-прежнему продолжать приносить повышенную прибыль, оставаясь эффективными и рационально предпочитаемыми. Здесь белорусский режим следует рассматривать как систему различных институциональных систем, которые формируют единое целое, и служат единой логике. Каждый из них существует в том числе и потому, что приносит повышенную прибыль для тех, кто контролирует эти институты (иначе говоря, наиболее эффективным способом перераспределяет ресурсы в пользу определенных «акционеров» режима). Размыкание одного из институтов (lock-out) – скажем, появление полноценной политической конкуренции – совершенно не обязательно приведет к коллапсу нереформированной экономики. В то же самое время, либерализация экономики, вызванная невозможностью сохранять старую систему в результате внешнего шока, не обязательно приведет к появлению соревновательности в политическом пространстве. История изобилует примерами, когда либерализация экономики осуществлялась с репрессивными действиями в политическом поле (Пиночет).
В данном контексте крайне сложно определить, когда именно режим «разрушается», т.е. подавляющее большинство институтов перестает приносить повышенную прибыль и уже не в состоянии вынудить политических акторов играть по заданным правилам.
Что касается «окна возможностей», следует понимать, что действия политиков и их стратегические выборы происходят в контексте влияния старых структур, внешних переменных, распределения ресурсов между игроками (и их относительной стоимостью) которыми политики обладают, и заранее просчитанной стоимостью стратегий. В данном тезисе я балансирую между предопределенностью (значительная часть работ о Беларуси написана именно в контексте подобного структуралистского детерминизма) и полным волюнтаризмом. Итак, вместо «окон возможностей» стоит скорее говорить о «структурированной неопределенности» [3] тех или иных стратегий. Относительно Беларуси данный тезис переводится в простой вопрос: а будет ли у следующего лидера Беларуси хоть какая-то возможность принимать другие решения, нежели те, которые принимал Лукашенко, и будет ли у него возможность изменить белорусский путь? Естественно, здесь я говорю об изменениях в «категории», а не в «степени», т.е. минимальная либерализация и другие стилистические инновации не в счет.
1b). Параллельность. Трансформации трех институциональных пластов (политика, государство и экономика), т.е. их реконфигурация, ре-адаптация и видоизменение совершенно не обязательно может быть одновременной: политический режим может сохраниться при экономической либерализации, и система вполне может обнаружить свой баланс в новой точке «олигархического авторитаризма». В связи с этим становится актуальной старая дилемма стран Центральной и Восточной Европы: как увязать политическую демократизацию и экономическую либерализацию во времени, учитывая то, что народные массы, по которым либерализация экономики ударит больнее всего, могут воспользоваться вновь обретенными эффективными политическими правами, для того, чтобы избавиться от реформаторов на первых же честных и свободных выборах? Данная дилемма может быть особенно актуальной в контексте слабо артикулированного желания у населения «вернуться назад в Европу» и пройти через «долину слез» максимально быстро.
Миф второй. Лукашенко – это Бог из машины.
Полагать, что причиной «особой» траектории Беларуси является лично персона Лукашенко столь же наивно, как и верить, что все закончится с его уходом. Очевидно, что белорусский режим удобно подгонять под определение «султанизма» [4] . Это удобно как политически – сразу понятно, кого винить во всем, (в том числе, и в собственных ошибках); так и теоретически – подобная конспирологическая теория полностью освобождает аналитиков от необходимости что-либо анализировать, кроме биографии самой «первопричины». Действительно, в белорусском варианте установления авторитаризма институционализация персоналистской вертикали была гораздо дешевле, чем создание партии власти для Лукашенко. Здесь же речь о другом. Когда есть «теория заговора» (и не важно, кто там основной агент: масонская «закулиса», вашингтонские капиталисты, или вот Лукашенко), все становится предельно понятно: надо писать непосредственно про Александра Григорьевича, соревнуясь за подбор лучшей метафоры как для него, так и для белорусского режима. При таком подходе очевидно, что не приди он к власти в 1994 г., Беларусь давно была бы консолидированным демократическим капитализмом в составе ЕС. Особенно забавно то, что в подобных конструкциях всемогущему джедаю Лукашенко отказывают в логике, рациональности и уме. Т.е. крайне непопулярно признавать, что власть что-то в состоянии планировать, просчитывать и имплементировать, кстати, зачастую очень эффективно. Признание же того, что режим действительно переигрывает оппозицию стратегически и, возможно, интеллектуально, боюсь, подвергнет любого, сделавшего это заявление, остракизму. Бесспорно, на стороне режима «послушный государственный аппарат», который активно используется для ослабления оппозиции всеми мерами. Действительно, при подобном высоком градусе репрессий оппозиция едва ли может быть сильной и объединенной, но с другой стороны, те стратегии, которая последняя выбирает для борьбы с режимом, являются в большинстве случаев нерациональными и малоэффективными. Таким образом, в Беларуси сочетаются интеллектуальный снобизм (мифы о «колхозной власти» [5] ), и гиперрационализация Лукашенко.
Миф третий. Политическая либерализация и политическая демократизация – это одно и то же.
Под первой принято подразумевать расширение гражданских и политических прав; под второй – создание механизма, который делает данные права эффективными: система балансов и сдержек, горизонтальная и вертикальная подотчетность, появление эффективного и сильного государства, которое поддерживает верховенство закона и не допускает возможность для кого-либо быть de legibus solutus (т.е. вне действия законов). Освобождение политзаключенных – это политическая либерализация; усиление законодательной и судебной власти, обретение ими независимости относительно власти исполнительной, т.е. создание эффективного механизма балансов и сдержек (вертикальная и горизонтальная подотчетность) – это уже демократизация. Иначе говоря, последним шагом перед полной консолидацией демократии (т.е. когда демократия становится «единственной игрой в городе» [6] , и никто не заинтересован в иных правилах либо в не в состоянии по ним играть) является формирование эффективного демократического государства, которое делает эффективными все институты «полиархии», возникающие вследствие политической либерализации. По большому счету, важно не столько то, в какой степени гражданские и политические права расширены, сколько то, насколько они эффективны в реальности. Безусловно, расширение политических и гражданских прав предполагает больший риск для авторитарных лидеров быть смещенными: появляется все больше и больше полей, на которых оппозиция может бороться за власть. И, тем не менее, применительно к Беларуси стоит понимать, что политическая демократизация и политическая либерализация не всегда идут рука об руку: несоответствие одного процессу другому может приводить к появлению либеральных автократий и нелиберальных демократий. Кроме того, эти два зверя особой породы: и «democradura» и «dictablanda» [7] не обязательно являются периодами на пути к полной либеральной демократии: такие формы гибридных режимов, как «делегативная демократия» или «либеральная автократия» могут сохраняться сколько угодно долго, и, даже потеряв свой баланс, они могут как прогрессировать в сторону консолидированной демократии, так и скатываться в полную консолидированную автократию.
Таким образом, когда белорусская оппозиция говорит о демократизации, чаще всего подразумевается именно политическая либерализация, т.е. совершается методологическая путаница.
Кроме того, в определенных обсуждениях смешивается воедино политическая и экономическая либерализация. Почему-то продажа некоторых предприятий инвесторам без создания соответствующих правил игры (законы о корпоративном правлении и т.д.) называется либерализацией экономики. Дело в том, что экономика может быть «либеральной» и при сохранении значительной доли государственного сектора (своеобразная модель «координированной рыночной экономики»), а рыночный способ перехода к капитализму является далеко не единственным (подробнее – в мифе восьмом о «развивающем государстве»). Наконец, уверенность, что либерализация политики (создание эффективных гражданских и политических прав) и либерализация экономики (создание эффективных экономических прав) будут параллельны в белорусском варианте – это чистой воды романтика. У меня практически нет сомнений, что во имя мобилизации экономики и перехода от «государства-рантье» к «государству развития» (developmental state) любые гражданские и политические права могут быть принесены в жертву.
Миф четвертый. Демократизация в Беларуси как процесс круглых столов и компромиссов.
Круглые столы и переговоры с оппозицией – это не начало демократизации, это свидетельство того, что она уже произошла. Демократизация происходит тогда и только тогда, когда определенные группы «вне режима» становятся настолько сильными, что авторитарная власть не может более игнорировать их требование о включении в процесс принятия решений. Демократизация не всегда является намеренным процессом, скорее это побочный эффект борьбы за власть, который происходит тогда, когда для действующего авторитарного режима становится «дороже» подавлять оппозиционные группы, нежели сотрудничать с ними. Пока оппозиция слаба, а режим силен, у последнего есть все основания игнорировать противников. Если демократизации не происходит, это значит, что или режим слишком силен (т.е. у режима есть все необходимые ресурсы для деактивации оппозиции и покупки лояльности), или оппозиционные группы слишком слабы, чтобы оказывать достаточное влияние на власть. Думаю, что в Беларуси действуют оба эти фактора. Более того, режим делает практически все, чтобы отсечь оппозицию от доступа к каким-либо значительным ресурсам (даже потенциальным), действуя при этом совершенно рационально. Рациональность здесь определяется толерантностью к риску у правящей элиты, а также соотношением стоимости стратегии и приносимой ей прибыли: так, подчас кажется, что режим перестраховывается и делает свою безопасность излишне дорогой, тратя чрезмерные усилия на подавление очагов потенциальной опасности. Здесь стоит сделать небольшое отступление.
В целом же, не бывает сильной/слабой или организованной/неорганизованной оппозиции относительно универсального «бенчмарка», бывает лишь достаточно сильная и организованная оппозиция относительно конкретного авторитарного режима. Ресурсы, на которые опирается оппозиция, также являются величинами относительными. Так, это может быть электоральная поддержка (то, насколько оппозиции удается мобилизовать широкие слои населения), внешняя помощь, финансовые ресурсы, наконец, это может быть институциональный ресурс, т.е. доступ оппозиции к некоторым государственным институтам (парламент, судебная власть и т.д.). То, как оппозиция координирует свои действия, имеет ключевое значение тогда и только тогда, когда различные группы расколотой оппозиции обладают реальными ресурсами и когда эти диверсифицированные ресурсы необходимо консолидировать для оказания единого, точечного давления на власть. В ситуации же, когда единственным ресурсом оппозиции является крайне ограниченная западная поддержка, то, какие именно съезды она собирает, какие именно коалиции она формирует, и кто из системной белорусской оппозиции провозглашается лидером, – практически никак не влияет на конечный результат [8] .
К сожалению, одна из важных причин неудач здесь заключается в патологическом неумении белорусской оппозиции переводить внутреннюю и внешнюю конъюнктуру из потенциального в реальный ресурс. Иными словами, оппозиция совершенно не в состоянии понять, что ее наиважнейшая задача в сложившемся контексте состоит в том, чтобы политизировать конкретные события и добиваться хоть каких-то результатов, но не в том, чтобы работать в жанре политического комментария на общечеловеческие темы [9] . При этом белорусская партийная оппозиция не подотчетна обществу, она не занимается расширением репрезентации интересов широких слоев населения, ограничиваясь только той группой, которая при любом сценарии голосовала бы «против» Лукашенко. В этом плане оппозиция ведет себя иррационально, так как любой рациональный политик заинтересован в том, чтобы зарезервировать максимально широкий диапазон голосов на своем политическом счету, а не в том, чтобы сегментировать и разделить изначально лояльный ей электорат.
Миф пятый. Закручивание гаек или временная оттепель – это симптом реальной трансформации режима.
Безусловно, иногда белорусский режим использует создание видимости оттепели, как и вполне конкретные репрессии в качестве предмета торга с Западом. В этом, режим немного напоминает ребенка: «я перестану мучить котят, только если ты мне купишь мороженое». Однако и здесь не стоит гиперрационализировать режим и видеть во временных флуктуациях (изменение в степени) начало полной трансформации (изменение в категории). Следует понимать, что практически любой диктатор действует в условиях обладания несовершенной информацией: у него нет достоверных данных как об обществе, так и о реальной расстановке сил между игроками. Во-первых, рациональный диктатор едва ли будет полностью доверять своим «придворным» службам и аналитикам; он понимает, что информация, которой он располагает, для него всегда искажена. Во-вторых, он уверен, что точно таким же образом информация искажается и в лагере противников. Истинное положение вещей никому вообще неизвестно, т.к. в обществе отсутствуют необходимые инструменты получения знаний об этом же обществе. В отличие от демократической системы, в которой имеется институционализированная система репрезентаций общественных интересов, посредством которой правитель может получать импульсы о текущем положении вещей в режиме реального времени, диктатор попадает в тот же идеологический капкан, который сам и создает для своего народа. Таким образом, в условиях подобной несовершенной информации диктатор вынужден оставаться на плаву, манипулируя вслепую двумя рычагами: кнут и пряник. Лукашенко достаточно давно сделал основную ставку на пряник, применяя кнут зачастую интуитивно. (Безусловно «кнут» применяется часто для поддержания монолита авторитарной бюрократии – с эпизодами публичной порки чиновников и т.д. Пряник достаточно хорошо спрятан от посторонних глаз. Но здесь все же речь идет не о способах структурирования и ротации элит, а о применении этих двух стратегий: репрессии и покупка согласия в отношении общества).
У авторитарного режима, таким образом, не существует функциональных механизмов снижения неопределенности (хеджирования рисков). Так, применение кнута бывает особенно частым не тогда, когда оппозиция действительно начинает представлять угрозу, а когда ее значимость повышается в восприятии Лукашенко и команды, т.е. в те моменты, когда у власти снижается аппетит к риску (аналог risk-tolerance у инвестбанкиров). Кроме того, аппетит к риску напрямую зависит и от различных внешних сигналов и событий (например, идея Виталия Силицкого об эффекте Дарвина у авторитарных правителей после начала Цветных революций), которые могут изменить роль и силу оппозиции. Наконец, аппетит к риску у диктаторов зависим от «колеи». Последнее проявляется вот в чем: большое количество преступлений на совести диктатора ведет к тому, что режим будет инвестировать огромные средства в собственное самосохранение (здесь хеджирование рисков может быть парадоксально дороже, нежели доходность самого агрессивного инвестиционного пакета) – в связи с тем, что стоимость выхода из игры колоссальная.
Что режим может предпринимать в такой ситуации (когда имеется два механизма управления рисками – это повышение/понижение градуса репрессий и интенсификация раздачи пряников)? Один вариант – это идеально-рациональная сталинская модель репрессий с ее включенным «генератором случайных чисел»: ты можешь быть хорошим коммунистом, или плохим – вероятность, что к тебе приедут на воронке, практически одинаковая. Другой вариант – это сохранение баланса между репрессиями и покупкой согласия. Однако, проблема тут в том, что и первое и второе может выходить из под непосредственного контроля диктатора. Как уже было сказано ранее, опираясь на пряник, режим загнал себя в угол: во-первых, выплачивая больше, чем он себе реально может позволить, во-вторых, создавая устойчивую привычку к получению пряников. В такой ситуации репрессии могут использоваться достаточно спонтанно и интуитивно. Таким образом, едва ли можно судить об изменениях в режиме по такому симптому, как жесткость разгона акций оппозиции и напротив, не стоит воспринимать временные «оттепели» всерьез. Так, брутальность властей может на первый взгляд казаться излишней и немотивированной, однако, не стоит забывать об особой рациональности лидера (его аппетиты к риску в ситуации несовершенной информации) и скудности доступных инструментов хеджирования.
Миф шестой. Заграница нам поможет.
Во-первых, бытует мнение, что демократические страны чем-то обязаны Беларуси. Как в части свержения режима, так и в части помощи по выходу из кризиса. То есть Запад просто не сможет спать спокойно, зная, что происходит в Беларуси. Сразу оговорюсь: ниже я не рассматриваю потенциальное влияние США и негативные санкции, которые применяются к Беларуси прямо сейчас (это тема отдельной статьи). Остановлюсь лишь на Евросоюзе. Можно оттолкнуться от вопроса: «кому позвонить, чтобы поговорить с Евросоюзом?» При текущей неповоротливости структур Евросоюза (сильной и неподотчетной Еврокомиссии и благожелательном, но практически безвластном Европарламенте) рассматривать ЕС как единого унифицированного игрока крайне недальновидно. И дело здесь не только в «дефиците демократии» в самой структуре Евросоюза, сколько в отсутствии эффективных механизмов по решению вопросов, подобного белорусскому. У Брюсселя нет компетенций в области эффективных негативных санкций по отношению к авторитарным режимам, (нет их ни в DG Relex, так и в DG Enlargement Еврокомиссии). Единственный успешный случай борьбы ЕС с недемократическим лидером – это опыт политики кондициональности в отношении словацкого премьера Владимира Мечьяра. Здесь стоит учитывать ряд факторов. Активный и пассивный левередж ЕС может сделать продолжение авторитаризма крайне дорогим для диктатора только в некоторых случаях. Первое: это присутствие стабильных (как социальных, так и организационных) связей с Европой. Второе: это реальная заинтересованность критической массы населения и «акционеров режима» в процессе евроинтеграции. Третье: это реальность перспективы членства в ЕС, т.е. особая позиция Брюсселя. Четвертое: «выручка» от адаптации Европейских правил превышает «затраты» на имплементацию этих правил, т.е. европейский выбор должен быть рациональным и целесообразным (быть с Европой должно быть выгоднее, чем быть с Россией). Левередж ЕС в белорусском сценарии значительно снижается и еще одним фактором – присутствием России, регионального гегемона.
В Беларуси нет практически ни одного из вышеперечисленных факторов: Брюссель никогда не выходил за рамки Политики Соседства, и никогда всерьез не предусматривал возможность членства для Беларуси. С белорусской стороны, даже среди про-европейской оппозиции, мало кто понимает (попробуйте спросить), что такое «acquis communautaire» c его 80 000 (!!!) страниц регламентаций и требований, и едва ли реально представляет, что такое евроинтеграция в реальности. Идея безвизовой Европы, безусловно, привлекательна, дискурсы об искомой европейской идентичности для Беларуси плодотворны, да вот только процесс европеизации – это несколько сложнее и дороже, чем декларированная любовь к идеям Жана Моне и Роберта Шумана.
Таким образом, оппозиция наработала некоторые навыки борьбы с режимом, (или создала замечательное алиби, почему эта борьба вообще невозможна), но едва ли обладает достаточными потенциями по формулированию и имплементации эффективной общественной политики (особенно, в разрезе требований acquis’а).
Миф седьмой. Вера в предпосылки для демократизации. Еще раз о менталитете, национальной идентичности и гражданском обществе.
Многие уверены в том, что демократизация возможна тогда и только тогда, когда для этого существуют структурные предпосылки: высокий уровень модернизации, сильное и консолидированное гражданское общество, эффективные политические партии, «правильная» национальная идентичность… Здесь аналитики солидарны в том, что историческое наследие Беларуси – советская модернизация, урбанизация, русификация – предопределили провал демократизации и экономической либерализации в середине 90-х годов. Иначе говоря, по мнению многих, структурные предпосылки обладали здесь настолько сильным действием, что политики попросту не были способны перевести белорусский поезд на альтернативную колею [10] .
На мой взгляд, не стоит придавать подобному наследию определяющую роль, оно лишь структурировало пространство для политических возможностей, но ни в коем случае не предопределяло результат [11] . К слову, также неверными представляются мне и противоположные объяснения, игнорирующие структуры и фиксирующиеся на агентах, которые якобы обладают безграничным и волюнтаристским трансформационным потенциалом.
7а). Национальная идентичность. Итак, первое место в хит-параде объяснений белорусского авторитаризма прочно занимает «культурно-национальный фактор» (слабая национальная идентичность, сложившаяся в результате турбулентности белорусской истории; культурная привязанность к России как к культурному и экономическому донору; отсутствие традиций государственности и менталитет; ностальгия по СССР и т.д.) [12] .
Увы, подобные объяснения далеко не безупречны. Во-первых, корреляция между «национальной идентичностью» и «демократизацией» достаточно слабая. Так, демократия процветает в странах, где сосуществуют разные идентичности: Кипр, Черногория, Канада, Новая Зеландия, Австралия, Исландия, Бельгия и т.д. В этих странах присутствие разнообразных национальных проектов не помешало возникновению сильного политического сообщества. Точно так же этнолингвистическая гомогенность (или гетерогенность) не определяли возникновение и консолидацию демократизации.
Во-вторых, слабое звено подобных объяснений – это отсутствие причинно-следственного механизма, который бы связывал параметры национальной идентичности с демократизацией. Так, например, мне совершенно не понятно, что именно объясняет эта «слабая национальная идентичность»? То, что общество не поддержало национально-демократическую оппозицию в начале 90-х? Или все же проблема тут и в том, что Позняк сделал неверную ставку на радикальный национальный проект и, тем самым, лишил себя электорального ресурса? Или, быть может, эта «слабая национальная идентичность» белорусов заставила БНФ отказаться от сотрудничества с номенклатурой в 1991 году, сделав совершение пактов невозможным?
В-третьих, белорусская оппозиция только в самом начале совмещала «национальную риторику» с демократической; позже, с переходом в оппозицию коммунистов и аграриев, данная связь была разорвана. Так что мобилизация оппозиции против коммунистической, а позже лукашенковской элиты на основе «национальных дискурсов» была далеко не единственной.
К похожим, чересчур «глубоким» объяснениям относятся и совершенно аморфные представления о «ностальгии по СССР», «менталитете» и т.д. Неужели какая-то абстрактная «ностальгия» (а вовсе не искаженность секторов белорусской экономики) ответственна за отсутствие структурных реформ в Беларуси (см. график)?
Искаженность экономики: 1.5 – максимально искаженная экономика (источник: Всемирный Банк (economic distortions), Оле Нооргард (2000)). Диапазон реформ (scope): 5.0 означает максимально глубокую реформу (источник EBRD, Transition Report (1994). Данный график показывает крайне сильную корреляцию между уровнем искаженности советских экономик (скрытая инфляция, доля промышленных гигантов, зависимость предприятий от рынка сбыта продукции) и прогрессом в экономической реструктуризации.
Итак, подобные структурно-культурологические объяснения «особого белорусского пути» представляются мне методологически неверными, так как в них в большинстве случаев отсутствует четкий механизм, который бы связывал причину и следствие. Как было сказано выше, структурные предпосылки являются лишь контекстом, в котором оппозиция и правительства делали свои стратегические выборы, и далеко не всегда они обладали ограничивающим или, напротив, открывающим возможности потенциалом. Все же проблема Беларуси – не в менталитете, не в национальной идентичности как таковых, а в том, что в определенный момент игроки, которые пытались сделать национализм основным ресурсом для прихода к власти, допустили катастрофические просчеты, переоценив свою мощь, что и привело систему к «зависимости от колеи».
Резюмирую свои рассуждения о национализме таким неприятным вопросом: это слабая национальная идентичность послужила причиной проигрыша БНФ, и в результате мы получили квази-советскую идентичность на референдуме 1995 года? Или же ошибочная стратегия БНФ привела к тому, что «аутентичная» идентичность (в интерпретации З. Позняка) утратила шанс победить, т.к. стала излишне радикальной и потому была заменена более оптимальной? Здесь подразумевается вот что: «структурное пространство» начала 90-х, в котором политики делали первые стратегические шаги, попросту «кричало» о том, что любой, кто придет к власти, будет обречен на зависимость от России, поэтому, использование русофобии в блоке национальной платформы было обычным политическим и экономическим самоубийством. То, что прошло в Прибалтике, не могло быть реализовано в Беларуси, поэтому копировать прибалтийский вариант национализма было совершенно недальновидно.
Кроме того, наивно думать, что взращивание «правильной» национальной идентичности и серьезной гражданской культуры в Беларуси может принести серьезные плоды в короткой перспективе – тем более, если все это основывать на столь аморфной базе, каковой является белорусский национализм. Дело здесь отнюдь не в историческом «везении»: история Беларуси ничуть не хуже и не лучше, чем у соседей, и многое может быть использовано для воссоздания «правильного» (и выгодного) национализма. Безусловно, это стоит делать уже сейчас. Только вот данные longuе-duree траектории меняются крайне медленно: рассчитывать, что в стране, которая «денационализировалась» практически всегда, тема национальной идентичности может объединить электорат под флагом демократических перемен, крайне наивно. Кроме того, необходимо понимать, что не столько сила национальной идентичности per se детерминировала демократические перемены в странах Центральной и Восточной Европы, сколько ее направленность («мы те, кто мы есть, потому, что мы отличаемся от колонизаторов-русских»). Так, спринт стран Центральной и Восточной Европы в сторону Брюсселя был во многом вызван желанием убежать подальше от «колонизатора-Москвы». При этом данное желание перевешивало любую временную оценку со стороны рациональности: правительства этих стран шли на очень дорогие и опасные реформы, трансформируя сильно искаженные экономики (Прибалтика); общества же поддерживали правительства реформ, понимая, что чем хуже сейчас, тем больший путь уже проделан от советского прошлого и российского влияния. В связи с этим возникает достаточно жесткая дилемма для Беларуси: усиление национальной идентичности и «белорусизация» вряд ли приведут к демократизации режима, если в ней не будет заложена серьезная русофобия. А последнее в белорусском контексте не пройдет. Фиаско БНФ в начале 90-х – яркое тому подтверждение.
7б) Гражданское общество. Многие считают, что ключ к успеху демократического дела в Беларуси лежит именно в разрезе создания независимого гражданского общества. Предполагается, что данное «параллельное общество» отвоюет у государства право на решение дилемм коллективного действия. Здесь аналитики, ссылаясь на опыт Солидарности в Польше и других протестных движений в странах Центральной и Восточной Европы, неверно считают, что ситуация в этих странах в 1989 г. соответствовала формуле «сильное общество vs. сильное государство». Все было с точностью до наоборот: «слабое общество vs. слабое государство» [13] . Государственные аппараты этих стран были ослаблены экономическим кризисом конца 80-х и не обладали достаточным репрессивным потенциалом. Политическая оппозиция и гражданское общество в этих странах также оставались слабыми, причем, настолько, что в той же Венгрии никто и не верил в возможность скорого конца социализма. Ни оппозиция, ни коммунистические правительства в действительности не знали реальной расстановки сил; только посредством интеракций и взаимодействий ситуация начала проясняться. Так что анализировать прошлые стратегии игроков надо не из позиции «здесь и сейчас», а с позиции самих игроков (тогда, и в том контексте), учитывая их веру в правильность собственной стратегии при опоре на определенный ресурс.
Наконец, пора, избавиться и от романтических представлений о важности гражданской культуры (складывается впечатление, что для многих совершенно популистские и умозрительные работы классика Роберта Патнама стали Библией) и понять, что гражданское общество никогда и нигде не было причиной демократизации, оно включалось в процесс демократизации на более поздних этапах, будучи, несомненно, серьезным фактором в проведении разнообразных реформ (в частности, экономических). Гражданское общество, представляя разнообразные общественные интересы и, выступая от имени сгруппированных по каким-либо признакам электоратов, добивалось от политиков включения данных интересов в повестку дня: политики, желающие остаться на плаву долгое время, понимали, что для этого им необходима электоральная поддержка, которую они получат в обмен за репрезентацию данных конкретных интересов. Т.е. ГО делало реформы более взвешенными, оказывая давление на политиков: последним приходилось постоянно экспериментировать и предлагать инновационные варианты компромиссов. Но и здесь гражданское общество может быть значимым фактором только тогда, когда власть уже получила прививку расширенной вертикальной подотчетности.
Опять же, Центрально-Европейский вариант гражданского общества (он является зверем «другого вида», нежели тот, который возник в Западной Европе) появлялся только там, где в Советское время существовала определенная автономия государства от общества. Только в тех странах, в которых была традиция государственности до включения в социалистический блок, определенные longue-duree траектории (национализм, уровень развития, модернизации и т.д.) приводили к формированию особых коммунизмов [14] : «национально-аккомодативного» (Венгрия, Польша, Словения, Прибалтика) или «бюрократически-авторитарного» (Чехословакия). Данные типы коммунизмов характеризовались наличием рациональной бюрократии и зарождающимся гражданским обществом, которые в значительной степени влияли друг на друга. В их конфликтах и взаимодействиях и появились необходимые для первоначальной политической конкуренции игроки. А из самой конкуренции рождались правила игры, т.е. демократические институты. Иначе говоря: данные страны начали марафон в сторону Европы (или бег от Москвы) гораздо ближе к финишной прямой и гораздо раньше, чем постсоветские республики. Два других типа коммунизмов – «патримониальный» (Беларусь, Украина, Россия, Албания, Румыния, Македония и т.д.) и «колониальная периферия» (Узбекистан, Туркменистан и т.д.) – характеризовались патримониальными административными отношениями, не оставляющими места для развития и аккумуляции гражданского общества. Как неоткуда ему было взяться в Советской Беларуси (в период с 1986 по 1992 г. в Беларуси прошло лишь 38 массовых демонстраций, большая часть из которых прошла под экономическими лозунгами и требованиями, в отличие от Украины с 719 демонстрациями, Литвы с 317) [15] , точно так же, неоткуда ему взяться и сейчас без внешней поддержки.
Да простят меня за цинизм, но, подобно тому, как в Болгарии и Румынии подавляющее большинство НГО оказалось невостребованными обществом, когда ЕС сократило финансирование третьего сектора этой страны, так, боюсь, и белорусское ГО может оказаться невостребованным самим же белорусским обществом. Кроме того, стоит понимать, что белорусское гражданское общество подотчетно прежде всему внешним донорам, в меньшей степени – самому обществу; большинство проектов, которые получают внешнее финансирование проходят оценку западных экспертов и поддерживаются те из них, которые, по их мнению, необходимы для Беларуси. Собственно говоря, Беларусь здесь не одинока: подобная проблема – невысокая эффективность финансируемых Брюсселем гражданских инициатив и проектов в странах Центральной и Восточной Европы – объясняется созданием очевидного рынка «добрых дел», где предложение этих проектов зачастую перевешивало объективный спрос на эти проекты внутри страны.
Итак, усиление третьего сектора в Беларуси, безусловно, окажет положительный эффект на курс реформ, но не стоит рассматривать третий сектор как решающий фактор в процессе демократической трансформации. Наконец, пора понять и то, что демократизация возможна без каких-либо значимых предпосылок. К примеру, Монголия вовсе не обладала большей склонностью к консолидации демократии, чем Украина или Грузия.
Миф восьмой. Построить капитализм и реформировать экономику, ампутировав государству руки.
Дискуссии вокруг либерализации белорусской экономики напоминают старые советы экспертов из Беркли, Вашингтона и Чикаго: «уберите государство, и невидимая рука рынка все сделает сама». В данной неолиберальной модели построение капитализма означает два процесса: разгосударствление и дерегулирование. В этом видится своеобразный аналог Вашингтонского консенсуса: государство должно лишь защищать права собственности, а все остальное сделает сам рынок. Существует совершенно необоснованная уверенность, в том, что подобный подход является единственно правильным: «свободный рынок приведет к появлению нового белорусского общества, с «правильным распределением интересов и ценностей», которые создадут гражданское общество – «цербера демократии».
Правила игры нельзя поменять за ночь, в противном случае они не удержатся. Рынок, не будучи регулируемым, не в состоянии решить большинство проблем (защита коллективного интереса, подотчетность частных организаций обществу, создание прозрачных правил игры). Увы, институты нельзя отксерокопировать на Западе и наклеить их в Беларуси. А для того, чтобы демократическая оппозиция когда-нибудь пришла к власти и смогла там удержаться, она, кроме производства общих сентенций о правах человека, о трагической судьбе славянского либерализма и исторического единства с Европой (sic!), должна уметь обеспечить сытость населению, не имея на то возможностей (напомню, что государству планируют отрубить руки в первом раунде). На этом я остановлюсь немного подробнее.
Рынок невозможен без системы прав и обязанностей, которые регулируются и обеспечиваются государством. Построение рынка эквивалентно построению государства. В неолиберальном подходе к реформам главное – это убрать государство с дороги рынка и установить «правильные цены», все остальное решит рынок. В Европейском варианте регулирования главное – это установить верные правила игры. Весь секрет не в «уменьшении» государства, а в его «улучшении»: повышении эффективности его административной, бюрократической и правовой функций. Правильный подход состоит не в дерегулировании, а в эффективном регулировании экономики, т.е. в создании выгодных правил игры. Иначе говоря, капитализм возможен там, где единственной формой капитализации является просчитываемое рациональное предприятие. Здесь важно не просто расширить определенные экономические права, но сделать их эффективными, а это невозможно вне рамок эффективного демократического государства с усиленной подотчетностью бюрократии в рамках верховенства закона. Таким образом, требуется не только расширение экономических прав и разгосударствление, т.е. передача собственности в частные руки. Прежде всего, необходимо создать рациональное государство, способное как генерировать эффективные институты, так и заставлять игроков действовать, оставаясь в рамках вновь созданных прозрачных и публичных правил игры. При этом государство не должно быть слишком сильным, иначе регулирование может превратиться в интервенцию и хищничество. С другой стороны, государство должно быть достаточно сильным, чтобы не пасть легкой добычей различных региональных экономических групп, которые стремятся захватить регулятивный аппарат государства для извлечения рент и перераспределения ресурсов в свою пользу. Иначе говоря, рынок во многом сводится к качеству государства и правления, а построение рынка напрямую связано с построением государства. В случае, если реформы политизируются, и правительства вынуждены нести на себе крест расширенной электоральной подотчетности, а также там, где существуют институты медиации общественных интересов, государство и правительство будут вынуждены учитывать разнообразные интересы, что значительно снижает риск остановки и разворота реформ вспять. В стране, в которой экономические реформы делаются по декрету президента, стоит ожидать больших проблем, чем в той стране, в которой в процесс инноваций включены силы, репрезентирующие различные интересы. В обратном случае сильное государство, не учитывающее общие интересы, рискует создать огромную группу лузеров и неконтролируемую группу бенефициаров. Последние могут заблокировать ход дальнейших реформ, капитализируя на доступе к власти и сливаясь с ней (state capture). В подобной системе власть и государство являются крайне зависимыми от своих новых бенефициаров.
Итак, экономическую реформу можно проводить только в рамках государства с расширенной вертикальной подотчетностью, при этом, вместо акцентов на разгосударствлении и дерегулировании, следует скорее задумываться о том, как сделать либерализацию и регулирование одновременными процессами. Существует сильная корреляция между «распыленностью» власти в государстве (сильным парламентом) и успешностью хода экономических реформ: в тех государствах Центральной и Восточной Европы, где либерализация экономики проводилась при сильной законодательной власти (и слабой исполнительной, соответственно), реформы миновали ловушку «капкан нижнего уравнения» и были успешными. Данный тезис напрямую адресован тем, кто считает, что экономическая реформа в Беларуси должна предшествовать политической реформе: мол, проведение либеральной реформы железной рукой поможет использовать послушный государственный аппарат для «насильственной» имплементации. И только потом можно начинать дискуссию с обиженными и обнищавшими в рамках демократического поля и отдавать им на откуп институты полиархии. На мой взгляд, это неверное видение ситуации.
Миф девятый. Про государство-то забыли или о природе социального контракта.
Здесь мы подошли к самому интересному моменту: а какое в Беларуси государство (state)? Вообще, тема белорусского государства была по большому счету проигнорирована, т.к. большинство оперируют категорией «политического режима». На мой взгляд, разница между различными типами авторитарных режимов (как и демократических) лежит в разрезе «качества государства», и игнорировать его здесь нельзя. Вне формирования демократического или авторитарного государства мы можем лишь говорить о демократической ситуации (в первом случае), либо об авторитарной ситуации (во втором случае), но никак не о режиме.
Начну с крайне непопулярного тезиса: в Беларуси действительно построено сильное и функциональное авторитарное государство. Кроме того, парадоксально, но оно не является автономным от белорусского общества. Теперь, по порядку.
9а). Сильное или слабое государство. Разница между автократическим и демократическим государством заключается в том, кому это государство подконтрольно: во втором случае государство подотчетно закону, который создается с учетом интересов разнообразных групп. В первом случае государство подотчетно агентам, которые стоят над законом, либо обладают властью устанавливать правила игры, не принимая во внимание общественный интерес. Сильное авторитарное государство способно консолидировать режим вокруг определенного центра (в отличие от сильного демократического государства, консолидирующего режим вокруг верховенства закона): такое государство контролируется режимом и используется им как аппаратный ресурс. Сила демократического государства и сила авторитарного государства диаметрально противоположны: первое полностью подчиняется верховенству законности и, соответственно, игнорирует любой незаконный приказ президента, второе беззаветно служит тому, кто над законом, и игнорирует любой закон во имя выполнения воли президента. Белорусское государство является сильным авторитарным государством. Сила здесь задается тем, что само государство тесно срослось с режимом и служит цели сохранения режима. По идее, такое государство должно служить интересам «некоторых», в отличие от демократического государства, которое служит интересам «многих». Но парадокс белорусского варианта состоит именно в том, что интересы «некоторых» и «многих» совпали: режим использует государство для перераспределения внешней ренты и регулирования экономики таким образом, чтобы поддерживать определенное благосостояние тех групп, которые являются наиболее уязвимыми в капиталистической экономике. Взамен режим получает лояльность широких масс. Самое интересное, что подобная система перераспределения ресурсов превратила электорат в акционеров, и со временем режим только крепнет, т.к. все больше и больше индивидуальных интересов инвестируются в него (подобно пенсионному страхованию, когда каждый новый, купивший полис укрепляет систему, за счет инвестированного в нее интереса и ожидания возврата инвестиций).
Данная перераспределительная система и побочные трансферты населению, с одной стороны, являются необходимой составляющей популистской экономической политики государства, а с другой стороны, приносят повышенную прибыль большинству «акционеров режима». Здесь следует сделать небольшое допущение: во-первых, подобная охлократическая модель экономики и государства является примером того, что авторитаризм может быть рационально-выгодным для общества в целом в короткой перспективе (я говорю лишь об экономическом рационализме), в определенные моменты развития – выгоднее, чем демократия. Естественно, такое возможно, когда общество в целом имеет крайне узкий горизонт ожидания, и измеряет качество жизни наличием колбасы. Кроме того «акционеры режима» (почти все те, кто голосует «за») не имеют возможности и желания расширять свой горизонт ожидания, т.е. осознать, что существуют такие возможности развития ситуации, которые в более далекой перспективе покроют затраты на изменение нынешнего курса. Т.е. для большей прибыли в будущем стоит пройти «долину слез» уже сейчас, пойдя на дорогие реформы уже сейчас.
9б) «Вмонтированная автономность». Государство – это автономная, скоординированная организация, которая контролирует население, живущее на данной территории. Государство размещается внутри общества для решения определенных задач. Важным здесь является понятие «вмонтированной автономности»: государство, с одной стороны, зависит от общества (вертикальная подотчетность бюрократии), с другой – обладает определенной автономией для того, чтобы в полной мере быть способным решать дилеммы коллективного действия данного общества (охрана границ, поддержание порядка и т.д.). Здесь мы подходим к крайне интересному вопросу: является ли белорусское государство действительно автономным от общества?
Думаю, что в гораздо меньшей степени, чем принято считать. История недемократических режимов знает огромное количество «исключающих авторитаризмов» (exclusive autocracy), в то время, как в Беларуси построен и консолидирован «включающий авторитаризм» (inclusive autocracy). Парадоксально, но опять же: белорусское государство при Лукашенко никогда не являлось de facto автономным от белорусского общества: через систему перераспределения оно создало огромную зависимость общества от государства, которая привела к созависимости общества и государства. Первое боится потерять свой статус «фри-райдера» в рамках данной системы, второе боится лишиться данной рациональной общественной поддержки.
Государство оставалось автономным лишь de jure, демонтировав работающий механизм репрезентации, который помогает узнавать «чего хотят все». Вместо этого, белорусскому режиму приходилось постоянно угадывать, «чего же хочет большинство». Таким образом, два данных фактора (отсутствие de facto автономии государства от общества и отлаженный механизм перераспределения внешней ренты внутри страны) и стали основой того, что принято называть «социальным контрактом». Безусловно, ставка здесь всегда делалась на большинство, меньшинство же попросту маргинализировалось и подавлялось (во имя большинства).
9в). Эффективность. Важно и то, что государство может выступать как фактором решения проблем, так и их генератором. В первом случае «государство как решение проблем» может быть неэффективным. Такое государство не справляется с решением своих непосредственных задач в связи со слабой организацией, имплементацией и административной импотенцией. Так, не все государства являются унитарными игроками, обладающими единой волей и координацией.
Слабые демократические или слабые авторитарные государства по сути дела представляют собой застывший итог борьбы за власть между различными группами. Вполне естественно, что победитель данной схватки в той или иной мере способен заложить свой интерес и «выгодные для себя асимметрии» в дизайн государства, что приводит к полному авторитаризму. В случае войны «всех против всех» нередко возникает компромисс, который получает ценностную прописку в качестве «верховенства закона».
С другой стороны, государство как «генератор проблем» может переходить грань дозволенного. В таком случае те, кто контролируют государство, используют его как личный ресурс (для обогащения или для устранения оппозиции).
Итак, белорусское государство является сильным и функциональным (хотя такое сочетание считается невозможным в методологии Всемирного Банка: его рейтинг правления по какой-то малопонятной для меня причине скоррелирован с рейтингом демократизации). Оно в состоянии имплементировать общественные политики, и ему удается поддерживать относительное социальное благосостояние, оно эффективно в фискальной политике, и т.д. Впрочем, сходные результаты можно найти и в других консолидированных авторитарных режимах, где существовала достаточно интересная корреляция между уровнем демократизации и уровнем ВВП по отношению к уровню 1989 года. Как раз самые консолидированные авторитарные режимы – Узбекистан, Туркменистан, Казахстан и Беларусь – показывали самые низкие темпы снижения ВВП, а также имели рекордно низкие фискальные дефициты в 1994-1998 гг. Как раз это и подтверждает, что консолидированный авторитаризм может быть более эффективным, чем неконсолидированный авторитарный (или неконсолидированный демократические режимы).
Таким образом, относительная функциональность белорусского государства, и его «вмонтированность» составляет природу белорусского «социального контракта». Белорусское государство напоминает олсеновского «стационарного бандита», который быстро превратился в Робин Гуда, стригущего ренты и изымающего у потенциально безопасного меньшинства, чтобы перераспределять в пользу потенциально опасного большинства. Когда оппозиция борется с Лукашенко, она, в действительности, не всегда понимая этого, борется с функциональным белорусским государством, которое многим нравится, и которое многие поддерживают. И проблема в перетягивании электората Лукашенко на сторону оппозиции заключается в том числе и в том, что первые – не столько «сторонники президента», сколько «акционеры режима». Акционерам не принято обещать свободу и независимость вместо дивидендов, и экономический популизм (пока он работает) можно победить лишь еще большим популизмом.
При этом оппозиция, сама того не понимая, попадает в ловушку: любая реформа экономики и любое дерегулирование (равно как и лишение предыдущей модели внешней ренты) приведут к ослаблению авторитарного государства, которое, в свою очередь, наиболее хорошо отвечает рациональным интересам как многих белорусов, голосующих за Лукашенко, так и правящей группировки. Т.е. к ослаблению государства, которое неизменно пройдет через стадию дисфункциональности, коррупции, слабой административной способности имплементации и т.д. Это связано прежде всего с заменой инструментов для имплементации публичной политики (вместо декретов президента – мучительно долгие обсуждения решений) и потенциальным ослаблением бюрократии. Наконец, совершенно непонятно, откуда возникнет новая белорусская бюрократия и насколько при этом будет потеряны управленческие компетенции, которыми обладает нынешняя бюрократия.
9г). Высокие трансакционные издержки. Основная проблема белорусского государства – его крайняя дороговизна для общества. Иначе говоря, белорусское государство в последнее время порождает космические трансакционные издержки в связи с решением определенных проблем. В этом и состоит макроэкономический популизм белорусского государства: положительные эффекты функционирования такого государства достигаются за счет нерыночного размещения ресурсов. Например, предприятия получают мягкие государственные субсидии, исходя не из их рентабельности, а исходя из занятости, т.е. подобное государство жертвует экономической рациональностью ради социальной стабильности. Период, когда доступ к внешней ренте практически ничего не стоил (доступ к российскому рынку, субсидии, дешевые газ и нефть в обмен на декларирование преданности и другие легкие концессии и поцелуи) завершается. Модель государства-рантье (своеобразного петро-государства) в Беларуси под угрозой, так как оно становится неизбежно дорогим: механизм перераспределения по-прежнему работает, а вот найти то, что перераспределять, собственно, гораздо сложнее [16] .
Миф десятый. Рыночные преобразования – единственный способ решить экономические проблемы Беларуси. Еще раз о возможности «правой трансформации» в рамках «левого» белорусского режима.
Так или иначе, большинство исследователей солидарны в том, что потеря российских дотаций ведет белорусскую экономику к коллапсу, а президента заставит выбирать между двумя вариантами – либерализация и структурная реформа, или же продолжение поиска ренты (в данном случае, распродажа белорусской собственности зарубежным инвесторам), что позволит Лукашенко и далее кормить «акционеров режима», т.е. белорусский народ. Считается, что в первом случае, «рынок» сметет режим, т.к. роль государства в экономике ослабнет, и появятся альтернативные центры власти; во втором – инвесторы захотят прозрачных правил игры и верховенства закона. Последнее особенно забавно в том смысле, что инвестиции положительно влияют на правила игры в экономике (в данном случае, на качество законов о корпоративном правлении) лишь в теории, на практике это далеко не всегда так (пример тому – Россия). Боюсь, что существует третий путь, и, судя по самым последним высказываниям главы Нацбанка, этот путь уже выбран. Правда, пока что власть не подобрала для него имени, но это вопрос времени. Этот вариант можно охарактеризовать как создание особого вида «капитализма, направляемого государством» (или просто «направляемый капитализм»), иными словами, это путь «государства-развития». Особенно логичным он кажется в свете сильного и достаточно монолитного (функционального) белорусского государства и консолидированного авторитаризма.
В 70-х годах прошлого столетия в ряде стран возник феномен под названием «государство развития» [17] (developmental state [18] ) – это послевоенная Япония, это Южная Корея, Сингапур, Тайвань. Экономический успех Восточноазиатских государств в конце 1970-х гг. был в огромной степени вызван активным участием государства в процессе реструктуризации экономик. Кроме того, в той или иной степени черты «государства развития» присутствовали в Бразилии и Индии. Наконец, еще одним любопытным аналогом является и французская модель капитализма (dirigisme).
В общем виде – это государства, которые, с одной стороны, подобно «хищническим государствам» выкачивают прибыль из различных секторов экономики, но, не теряя своей «вмонтированности» (embeddedness), продолжают обеспечивать коллективные блага и провоцируют реальный рост экономики [19] . Кроме того, «вмонтированная автономность», о который было сказано выше, не перерастала в «автономность», как в случае «хищнических государств» (Заир при правлении Мобуту), в которых государство становилось природным хищником, а общество – естественной добычей.
Подобные государства ведут себя сами как предприниматели, тесно срастаясь с определенными бизнес-конгломератами и образуя определенные устойчивые корпоративистские сети: например взаимодействие государства и «чеболей» (крупных бизнес-групп) в случае Южнокорейского «развивающего государства» при президенте Пак Чжон Хи. Кроме корпоративистского альянса между государством, профсоюзами и производственными секторами, оставаясь скептичными к неолиберальному пути развития (в частности, отрицая Вашингтонский консенсус), подобные государства всячески обеспечивали протекционизм внутренних секторов экономики, развивали рынок капитала, привлекая инвестиции и осуществляя трансферт технологий извне. Т.е. государство здесь само играло основную роль в решении задачи «догоняющего развития» (Гершенкрон), оставаясь функциональным и легитимным (несмотря на раздутую до пределов бюрократию). Государственное регулирование (то, что чиновники МВФ моментально окрестили бы интервенцией) размещало капитал таким образом, что это провоцировало экономический рост.
Каковы шансы Беларуси превратиться в «государство развития» из «государства рантье»? Думаю, достаточно высокие. Здесь следует учитывать несколько моментов. Практически всегда начало реформ связано с временной защитой «преобразовательных команд» от непосредственного влияния бенефициаров текущего режима, т.к. начало любой реформы (фаза 1) ломает систему перераспределения ресурсов в пользу определенных бенефициаров (акционеров режима). Реформа возможна только тогда, когда у реформаторов есть возможность либо игнорировать акционеров, либо лишать их механизмов извлечения рент, либо покупая их лояльность и обещая им что-то взамен. Для стабилизации и консолидации реформы (фаза 2) необходимо создание новой группы акционеров (бенефициаров), которая будут способствовать стабилизации реформ до тех пор, пока статус-кво не изменится (новые экзогенные шоки и т.д.). Трансферты для бенефициаров могут быть разнообразными: в простом варианте – это льготы, зарплаты, пенсии, рабочие места, в более сложном – это создание систематических асимметрий для определенных групп, создающих возможности для рентоориентированного поведения. Второе значительно опаснее. Например, стабильный курс валюты и подавленная инфляция могут быть общественным благом, в то время как гиперинфляция может выступать средством для определенных фирм капитализировать на совершении арбитражных сделок (особенно, когда существует зазор между реформированными и нереформированными пластами экономики).
То, что происходит в Беларуси в последние полгода, на мой взгляд, – это очевидная фрустрация режима, который пытается выбрать между двумя сценариями развития. Первый – продолжение перераспределения через модель «государства-рантье», второй – формирование «государства развития». До сих пор функции правительства Беларуси состояли в сдерживании развития частного сектора, поддержке госсектора, в перераспределении рент в пользу широких слоев населения с несформированными предпочтениями (кроме экономических). Сейчас государство пытается получить относительную автономию от общества, постепенно отлучая бенефициаров от «кормушки» и бряцая оружием при разгоне мирных акций. Данная автономия нужна для получения иммунитета от населения (т.е. социальный контракт будет нарушен через снижение функциональности такого государства) – для того, чтобы начать перераспределять капитал и ресурсы более рациональным способом (т.е. не проедать, а реинвестировать). Рационализация размещения капитала ударит по нынешним бенефициарам экономической системы и ослабит белорусское государство и режим в целом. Очевидно, что режиму придется менять поддержку с охлократической на олигархическую, и здесь у Лукашенко на руках все козыри: в отличие от России, олигархи могут выбираться, назначаться, создавая новый режим – О’Доннеловский «бюрократический авторитаризм» с сильными клиентеллами. В средней перспективе это приведет к изменению типа белорусского режима – от авторитарного рыночного социализма к авторитарному госкапитализму, который очень быстро скатится к олигархическому авторитаризму. И здесь произойдет раскрытие режима, т.е. в политическом пространстве появится соревновательность.
Итак, у Лукашенко имеется, по крайней мере, два выхода из сложившейся ситуации. Он может продолжать действовать иррационально (эксплуатировать перераспределение для покупки лояльности), делая государство безумно дорогим. Основной риск здесь в том, что при подобной стратегии будет продолжать увеличиваться внешний долг, расти дефицит бюджета и т.д., и в итоге система может не выстоять. С другой стороны, Лукашенко может опять «выиграть все», найдя способ извлекать дешевые внешние ренты, скажем, за счет новой конфедерационной риторики.
В другом варианте – создание «государства развития» повлечет за собой другие последствия. В частности, получить иммунитет от акционеров режима (голосующих «за») будет крайне непросто.
Более того, существует риск, что оппозиция догадается сыграть именно на этих нотах народного сознания и вытащит нового «антикоррупционного джокера»: ведь параллельно с отлучением населения от кормушки будет проходить процесс формирования коалиции бенефициаров – клиентов Лукашенко. Пока что режим играет в обе игры одновременно: испытывает запасы терпения бенефициаров (нарушая, «социальный контракт») и готовит почву для создания «государства развития». Напомню, что во втором варианте основная поддержка будет исходить не от ХХХ ХХХ ХХХ белорусов-акционеров режима, голосующих «за», а от ХХ новых бенефициаров-олигархов. Для второго варианта необходимо построение социальных коалиций. Я не буду удивлен, если для этого будет использованы демократические и либеральные лозунги, и часть нынешней оппозиции будет куплена новыми олигархами и кланами.
Так что, вопреки распространенному мнению, у Лукашенко есть вариант избежать судьбы Пиночета и всех тех диктаторов Латинской Америки, которых сметал негативный рост экономики (редкие авторитарные режимы переживают 25% снижение ВВП). Оптимальным решением для него может стать выбор модели «государства развития» при использовании консолидированного и послушного государственного аппарата для новой экономической политики. Трудности же, которые ему придется преодолеть здесь, – это получение автономии от общества, т.е. нарушение социального контракта и создание нового типа легитимации (смена охлократии на олигархию).
Миф одиннадцатый. Олигархия – это плохо.
Думаю, что основным условием формирования демократии в Беларуси (собственно, как и в России и Украине) является ситуация, когда никто из игроков не может консолидировать всю власть в своих руках, что само по себе приводит к некоторой соревновательности и формализации определенных правил игры. Роль олигархических альянсов здесь двойственна. С одной стороны, существование олигархов (т.е. групп акторов, которые капитализируют на арбитражном поведении и рентах, сращиваясь с политикой) являлось неизменным злом для перехода к нормальной рыночной экономике (зачастую олигархи могли блокировать некоторые реформы, например, макроэкономическую стабилизацию, извлекая сверхприбыли именно из инфляции). Правительствам для продолжения реформ приходилось либо разбивать альянсы потенциально опасных экономических групп, либо покупать их содействие, обещая им что-то взамен закрывающихся окон для рент. Или сдаваться им в плен. Что иногда крайне выгодно. С другой стороны, с точки зрения наличия определенного уровня соревновательности и демократии олигархи являются неизменным благом, так как они снижают уровень функциональности государства и ограничивают возможность единоличного контроля над государством со стороны того или иного президента. В данном случае показательным является пример Украины: захват законодательной власти олигархическими альянсами в середине 90-х привел к появлению новых политических сил, которые не дали Кучме выиграть конституционный референдум. Таким образом, нанося ущерб экономической функциональности государства, олигархи, тем не менее, являются серьезной предпосылкой для соревновательности режимов («войны всех против всех»), в которой победитель «не может забрать абсолютно все», а значит удерживают систему от полного скатывания в консолидированный авторитаризм.
Вместо подведения итога данной статьи, хотелось бы высказать лишь несколько соображений общего плана. Постсоветская история Беларуси – это пример несинхронного размыкания (lock-out) трех основных институтов (экономика осталась в капкане развития). Данный капкан в развитии помог Лукашенко заново замкнуть систему, консолидировав авторитаризм через получение полного контроля над государственным аппаратом в 1996 году. Опять же, надо признать, что Лукашенко и здесь действовал максимально рационально. Из советского фри-райдера Беларусь превратилась в подобие государства-рантье в постсоветский период, в своеобразного Робин-Гуда. Сейчас, когда Робин-Гуду некого грабить в лесу, он имеет все предпосылки превратиться в «государство развития», своеобразного предпринимателя, в терминах Гершенкрона и Хиршмана. Таким образом, мало того, что в Беларуси на сегодняшний день практически не возникло предпосылок для демократизации и строительства регулируемого капитализма, два институциональных пласта – нереформированная экономика и функциональное сильное авторитарное государство – находятся в капкане развития, и игнорировать два данных прискорбных факта попросту нельзя.
В самом ближайшем будущем Лукашенко придется экспериментировать именно с государством. Вариант «государства развития» поможет ему избежать мгновенного ослабления хватки, которая была бы неминуема при рыночном варианте решений проблем. Для этого режиму придется, с одной стороны, дистанцироваться от электората (акционеров режима), с другой – создать новую группу бенефициаров, которым, в свою очередь, придется самостоятельно или под крышей режима строить коалиционную поддержку. Режим столкнется с большим количеством неприятностей и опасностей на пути, описанном выше. Оппозиция получит шанс быть включенной в аппараты принятия решений, но для этого ей, вполне возможно, придется корректировать платформу (только самые гибкие и мобильные партии получат шанс выработать эволюционный ген и уцелеть) и вступать в различные коалиции с различными фракциями власти. Наконец, надо признать, что Лукашенко и в этом повезло: постсоветское пространство изобилует примерами экспериментов с «виртуальными» и «контролируемыми» демократиями, и здесь он вполне может скопировать пример России.
——————–
[10] Я ни в коем случае не отрицаю потенциал подобного структуралистского подхода, но, опять же, процессы на бывшем социалистическом пространстве сигнализируют о необходимости пересмотра структуралистских теорий: ни одна из постсоветских республик (за исключением трех Прибалтийских стран) не смогла достичь «обетованной земли демократии», и ни одна из стран Центральной и Восточной Европы не скатилась к авторитарному и гибридному режиму. К концу 2000 году, магистраль демократизации разделилась на три отдельных полосы: демократии (Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения); гибридные режимы (Албания, Армения, Болгария, Грузия, Молдова, Монголия, Россия, Украина) и авторитарные режимы (Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). Данные региональные эффекты, безусловно, наводят на мысль об определенных закономерностях структурных переменных. Однако же, речь в этой статье идет только о Беларуси.
[11] Во-первых, структуры сами по себе не определяют траекторию развития, это делают акторы и их интеракции, совершенные в контексте структур. Во-вторых, структурам зачастую придается статус детерминант, которые якобы предопределяют результат. В-третьих, исследователи зачастую выдают за причинно-следственный механизм обычную корреляцию (в то время, как зависимые и независимые переменные могут меняться местами). Наконец, причина и следствие могут быть отдалены друг от друга значительным отрезком времени, который попросту размывает каузальный механизм и делает подобное объяснение ненаучным. Безусловно, причины того, что происходит сейчас в Беларуси можно наверняка найти и в ВКЛ, и в Киевской Руси, и в некоторых особенностях нашего региона в «ледниковый период», но вот только влияние А (то, что произошло давно) на Б (то, что происходит сейчас) проследить практически невозможно.
[12] Существует большое количество вариантов данной «зависимой переменной»: постколониальная ситуация Беларуси, креольство, пограничье, и т.д.
[13] Stark and Bruszt (1998)
[14] Herbert Kitschelt (2001)
[15] Mark Beissinger. (2004)
[16] Насколько далеко режим может пойти для того, чтобы окна рент оставались открытыми (т.е. возможна ли конфедерация с Россией в обмен на дешевый газ), пока что, неясно. Думаю, что отличный способ строить конфедерацию – это лишь «говорить о конфедерации», однако, в данной статье я выношу данную проблему за скобки.
[17] Полную дискуссию можно найти в текстах Хаггарда и Кауфмана, Питера Эванса, Хиршмана и Гершенкрона.
[18] Концепция developmental state восходит к работам японского экономиста К. Акамацу, который в 30-е гг. сформулировал теорию «гусиного клина». Суть этой концепции проста: страна-лидер («вожак стаи») обеспечивает технический прогресс, который подхватывают следующие за ним страны.
[19] Данная «вмонтированность государства» в общества и в рынки, вопреки всем прогнозам, не дегенеровала в клиентализм и коррупцию и не приводила к ослаблению функциональности этих авторитарных государств.
Литература:
Fish, Steven (1998), ‘The determinants of economic reform in the post-communist
world’ East European Politics and Society, 12 (1), 25-45.
Gryzmala-Busse, Anna, and Pauline Jones Luong (2002), ‘Reconceptualizing the state:
lessons from post-communism’, Politics & Society, 30 (4), 529-54.
Hellman, Joel (1998), ‘Winners take all: the pitfall reform’, World Politics, 50, 64–78.
Karl T. L., Schmitter P. C. Modes of Transition in Latin America, Southern and Eastern Europe. // International Social Science Journal. # 43. 1991.
Stark, David and Laszlo Bruszt (1998), Post-socialist Pathways: Transforming Politics
and Property in Eastern Europe, New York: Cambridge University Press